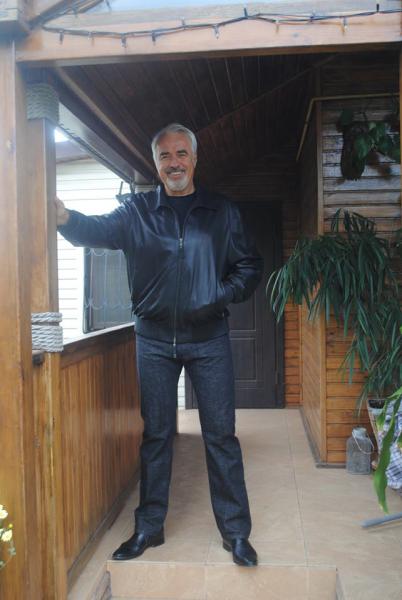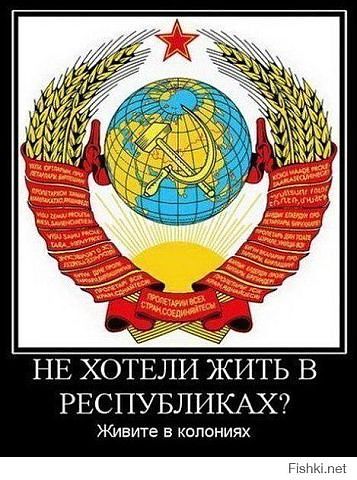Марина Шаповалова
5 ч ·
Мой предыдущий текст эмоционален, но это не утопические пацифистские сопли. Не надо мне напоминать, что в реальности от агрессора приходится защищаться, а потому армия нужна. Речь о другом.
Человеческая история всегда была историей войн. Но в 20 веке кое-что изменилось кардинально и навсегда. Изменилось двумя мировыми войнами, которые можно считать одной войной, выдохшейся и остановленной, чтобы потом продолжиться.
В Европе первая война начиналась вяло, без ожесточения. Поначалу трудно было англичанину убивать немца, с которым он ещё вчера мог встретиться где-нибудь на набережной в Ницце, сидеть рядом в кафе или в Венской Опере. Через шесть лет озверели все: уже мало было просто убить врага - хотелось издеваться над ним, наслаждаясь мучениями. Общее истощение сил привело к замирению. Не к миру, который бы всех устраивал, потому что масштаб потерь превысил способность к нормальной адаптации, а унижение побеждённых требовало сатисфакции и отмщения. Стрельба прекратилась, но ожесточение росло под прессом "несправедливых" условий вместе с желанием их изменить, "исправить". Через двадцать лет технологичное сжигание людей в печах стало возможным только вследствие остановленной войны и благодаря ей.
В 1945-м году, наконец, стало ясно, что мир - это не когда агрессор наказан и унижен, а когда условия мира приемлемы для всех сторон. Денацификация населения Германии проводилась эмоционально жестокими методами, но побеждённые на этот раз не подвергались обструкции, напротив - активно вовлекались в процесс построения общего мирного порядка. К сожалению, не для всех общего и единого, а разделённого на две системы, но с пониманием необходимости мирного сосуществования. К этому подталкивал и новый вид оружия массового уничтожения, продемонстрировавший под занавес, чем обернётся для человечества следующая война.
Семьдесят лет мы живём в новом мире, не предполагающем выживание человечества после новой большой войны. Если такая война начнётся - мир в результате установится на безлюдной планете.
Казалось, тут всё ясно всем и навсегда. Казалось, что без противостояния двух систем основы мира станут ещё прочнее. Но оказалось, что проигравшие в мирном состязании могут возжелать реванша не меньше, чем побеждённые на театре военных действий.
Обиженность карликовых аутсайдеров представлялась неопасной - о ней вообще не задумывались и не искали способов преодоления. Локальные конфликты среднего масштаба пытались разрешать по-старинке - подавлением вооружённой силой, либо по-новому - посредством экономических санкций. В чём не преуспели, но выводов никаких не сделали. Реваншизм на седьмой части земной суши, вооружённой летальным для планеты оружием, поставил вопрос, на который не только нет ответа, но и не ясно, где и как его искать.
Между тем, природа не терпит пустоты и не допускает отсутствия реакции: в ответ на вооружённую агрессию возникает агрессия того же характера. С той же жаждой реванша и победы. С тем же культом вооружённой силы и "воинской славы". С пафосом подвига и самопожертвования, оправданным необходимостью защищаться.
Страх оказаться втянутыми в общую большую войну ещё сдерживает: агрессоры "скромничают" в средствах, маскируют локальные конфликты "гибридностью", все участники пока опасаются вызвать соперника на бой "последний и решительный", имея в виду его возможный исход. Вероятность которого, между тем, неуклонно повышается: чем больше задетых и травмированных войной, чем боеспособнее армии и активнее мобилизация населения - тем сильнее взаимное озлобление и готовность воевать до победного конца. Или, как сто лет назад, до обоюдного изнеможения. Которого на этот раз не будет.
Мы же знаем, что ничьей победы в этом противостоянии не будет. А это значит, что задача сохранения мира решается только глобальной стратегией предотвращения войны. Временно и половинчато - средствами сдерживания. На постоянной основе - только поиском способов исключения вооружённых конфликтов. Поиском способов превентивного и гарантированного вовлечения потенциальных агрессоров в общую систему взаимовыгодного развития и безопасности.
Как не создавать изгоев - следовало бы подумать и потренироваться "на кошечках", типа КНДР и ближневосточных террористов, до отращивания у "кошечек" зубов и когтей. Если бы стратегия и тактика оказались достаточно действенными, мир не столкнулся бы с необходимостью как-то сдерживать "обиженного" тигра, вовсе не ручного и не беззубого, как думалось многим. К чему приведут дальнейшие попытки изоляции и обструкции "тигра-изгоя", и как потом выйти из тупика, если вообще из него останется кому выходить - никто сегодня не знает
. . .
Реваншистский культ победы, взвинченный в РФ, опасен не только сам по себе, но и ответной реакцией. Он опасен в том числе и синдромом "защитной войны", известным сегодня далеко не только постсоветскому пространству, формирующим сознание, в котором война возможна. В котором культ "крутых спецназовцев" выходит за рамки защиты мирных граждан от террористических банд и превозносится на уровень защиты государства и его интересов.
Такое состояние умов - предвоенное.
Если "есть такая профессия - защищать родину", то найдутся мальчики, сознательно избирающие столь романтизированную "профессию". Из мальчиков составляются армии - то есть, государственные структуры, по определению предназначенные для ведения военных действий. Готовые начинать их по приказу. Дальше можно не продолжать. Потому что однажды станет не важно, кто напал, а кто защищался.
В парадигме "сохранения мира" вооружённые подразделения должны быть нацелены на защиту и спасение людей, а не государств и территорий. Отдельных людей, без разделения на "своих" и "врагов". Без разделения на "наших" и "чужих". Для этого система безопасности должна быть всеобщей, международной, а не национально-государственной. А образ профессионального защитника - не связанным с "полями сражений", окопами, атаками, бомбёжками и обстрелом городов.
Мы не так далеки от этого, как может показаться. Может, всего в двух шагах.
Но успеем ли их сделать?
 Попова Наталия, on 31 July 2017 - 08:33 PM, said:
Попова Наталия, on 31 July 2017 - 08:33 PM, said: